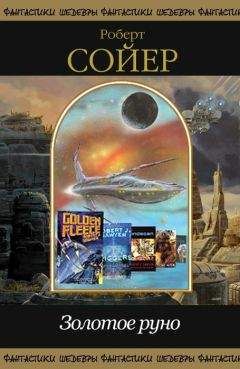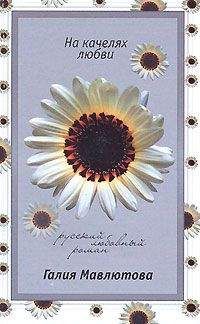«Опять приехала часть, — подумала она, жмурясь от солнца и всматриваясь из-под локтя, — в клуб-то не опоздать бы…»
Солдаты приближались к оврагу торопливой походкой, и солнце яркими пятнами вспыхивало на их гимнастерках.
«Уж не ко мне ли?» — с легким, но все еще не забытым трепетом подумала она и пожалела, что не сняла засаленную фуфайку.
…Когда-то давно, больше двадцати лет назад, когда шел ей только семнадцатый, здесь впервые расположилась воинская часть, отведенная с фронта на отдых. С тех пор прошло много времени и не мало солдат наведывалось в деревню, заходили и к Катерине, но никто не остался с ней, не остался даже в ее памяти, кроме одного — Захара… И хотя все они были очень разные — молчаливые и говоруны, весельчаки-краснобаи и серьезные парни, но все были как-то одинаково непутевы и по молодости торопливы.
«А ведь и верно ко мне!» — все так же, на полдыханье, прошептала она и вмиг скинула с себя фуфайку, бросив ее на колья огорода. Затем она одернула платье, подхватила ведра и стала весело спускаться по тропинке к колодцу, только шаг ее и гибкость полнеющего стана были уже не те, что когда-то.
Она уже отцепляла второе ведро с водой, когда по склону, потрескивая диким малинником, скатились два солдата.
— Помочь?
— Помогите, коль не лень!
Катерина блеснула им яркой улыбкой, совершенно меняющей ее одутловатое лицо с вечным загаром и тонкими штрихами морщин.
Черненький коренастый солдат с усиками, не из русских, первым поднял ведра и понес их в гору. Второй шел следом и все расправлял складки на гимнастерке, загоняя их в гармошку, назад. Один раз он повернулся к Катерине и предупредительно спросил:
— Подниметесь?
— Подниму-усь! Веревок не потребуется! — пошутила она снова, скрывая одышку, и глаза ее засветились озорством.
Тот сдержанно улыбнулся ей в ответ, поправил пилотку и спросил:
— А Морозовы где живут?
— А вот, рядом, — ответила она с холодком и подумала: «К Любке пришли, к заведующей клубом».
— Ага! Ну ладно, — заспешили они, — спасибо, мамаша!
«Мамаша!..»
Вдоль частокола замелькали их гимнастерки, а Катерине показалось, что все вокруг нее движется, мелькает и бежит куда-то вперед, обгоняя ее, — все мимо, мимо, а она остается… Мамаша… Все в ней сразу обмякло, как отшибленное, и мысли тяжело поползли одна за одной. Мамаша… Неужели уже все позади? Да и было ли что? Кого вспомнить добрым словом? Захара? И что это он помнится ей столько лет? Ведь и побыл всего немного, а ушел на фронт — ни письма, ни весточки. Все уже забыто в нем — и лицо, и голос, а он все помнится ей, словно рядом живет.
…Уже несколько дней деревня не слышала стрельбы: война, неотвратимо надвигавшаяся все ближе и ближе, вдруг остановилась в той стороне, где был город, и только по всему горизонту еще не умолкал грохот да дергались широкие всполохи огня в ночи, но постепенно все это отдалилось и вскоре совсем затихло. Не верилось, что опасность ушла, и женщины, толпясь вечерами у изб, все еще судачили, куда бежать и что с собой брать, если война подойдет к их деревне. В городе, куда Катерина ходила выправлять свой первый в жизни паспорт, она видела на улицах много военных. В школы и другие большие дома несли и несли раненых. Около единственной в городе столовой с утра толпилась очередь, а по улицам слонялись тоскливые беженцы. Войне еще не было видно конца…
Однажды поздно вечером с другого края деревни прибежала заплаканная девочка и сообщила: только что через деревню прошли наши и скрылись в лесу. В ту ночь никто не спал, всем казалось, что это отступление.
Утром следующего дня Катерина, заснувшая перед рассветом, услышала на дворе веселые мужские голоса. Не одеваясь, она осторожно, одним глазом посмотрела из дверного притвора и увидела около крыльца солдат, разговаривавших с матерью. Они, по-видимому, пили воду: мать держала в руке большую жестяную кружку.
— А мы-то тут перепугались, сказать нельзя как, — говорила им мать с виноватой улыбкой.
— Зачем же так, — отвечал ей пожилой солдат, — теперь дела пошли, теперь мы его докрошим.
— Как пить дать — докрошим! — поддержал высокий светловолосый солдат. — Теперь весело стало воевать: техника появилась.
— Да и самолеты завелись наконец, — вставил третий.
— Ну и хорошо, коли так… А много вас нахлынуло на отдых-то сюда?
— О таких делах вообще-то не говорят… — замялся светловолосый, к которому был обращен вопрос, но пожилой солдат просто и устало сказал:
— Полк нас тут, да только осталось от него… Ну, спасибо за воду! Хорошая у вас вода, да только мало нам такого источника, — сменил он разговор.
— Эки вы неразумны: к реке вам надо поближе! — посоветовала мать.
— Нельзя, мамаша, — возразил светловолосый, — у реки лесу нет, а тут, за оврагом, маскировка хорошая в сосняке. Война, мамаша, такое дело…
И он похлопал ее по плечу.
Солдаты ушли за овраг, где раздавались голоса и топот сапог. Мать вошла в избу радостная, весело суетилась, подметая пол, и скороговоркой рассказывала, кивая на каждом слове:
— Отогнали немца-то. Бои, слышь, большие были, помнишь — гремело? А теперь, говорят солдаты, немного осталось до конца: самолеты, говорят, у нас залетали, вот чего. Если так дело пойдет — батько, того гляди, придет, ничего, что без вести пропавши. А это на отдых пригнали, воду, вишь ты, ищут.
— Мама, а где мое розовое платье?
— Розовое? — Глаза матери виновато забегали по углам.
— Ну да, — розовое.
— Так ведь розовое-то, милая… А дуранду-то мы ели, ведь это на него я…
— А синее? — со слезами спросила Катерина. — Синее тоже променяла?
— Господь с тобой! Синее тут. Ищи лучше, тут синее! Да почто тебе платье-то, а?
— А в чем ходить?
— Да синее-то почто, а?
— Почто, почто…
— Ой, девка, не дури! Пойдем-ко на картошку, скорей давай!
И хоть было горько, но Катерине казалось, что в доме стало почему-то светлее.
В полдень Катерина услышала в овраге шум. Она подошла к краю, заглянула. Там, внизу, близ источника, около десятка солдат рыли по очереди широкую яму. Работа у них шла весело. Порой они шутливо переругивались и подтрунивали друг над другом, а то вдруг — все над одним. Кое-кто затягивал песню, и от всего этого — от густого гуда мужских голосов, давно не слышанных в деревне, от уверенного топота сапог, от раскатистых команд, доносившихся из лагеря, — на душе Катерины становилось радостно и неспокойно.
Вечером мать принесла воду не из источника, а из колодца, вырытого солдатами. Вода была еще слегка мутная, но холодная и вкусная.
— А у Морозовых командир стоит, вся летняя половина ему отдана, а сам-то он совсем глухой на одно ухо, — истово шептала мать, по привычке кивая себе головой на каждом слове, — говорят, одним боком слушает, это его бомбой стукнуло.
И это тоже было интересно Катерине.
С первого же вечера солдаты стали крутиться возле их избы, пока однажды командир не сорвался на них, но и после его категорического запрещения бывать на противоположной от лагеря стороне оврага солдаты тайком приходили. Придут, встанут за огородом так, чтобы не видно было от Морозовых, поговорят с матерью, расскажут ей про войну, посмотрят на Катерину, пошутят с ней, смущенной, и расходятся, вздыхая.
— Ты смотри, не больно-то… — говорила мать Катерине. — У всех у них одно на уме!..
— Так уж и у всех! — возражала Катерина, краснея.
— Ясно у всех! А ты и смотри им в рот-то больше, они тебе наговорят с три короба!
— Уж и с три короба!
— Ясно с три короба! Все они на одну колодку!
— Так уж и все!
— Ну, разве вон этот, что Захаром зовут, постепенней вроде… — сдавалась наконец мать.
Высокий беленький солдат, еще совсем молодой, понравился матери с того самого утра, когда солдаты приходили насчет воды, и она отпускала Катерину поговорить с ним у огорода, но всякий раз напутствовала:
— Ты смотри у меня! Не больно-то… Разговаривай с ним из огороду, да частокол-то не раздвигайте!
И Катерина слушалась, лишь под конец вечера выходила к крыльцу, и они с Захаром еще немного стояли у березы, на которой уже запестрели две буквы — «К» и «З». А потом ее окликала мать, и надо было расходиться. Катерина еще некоторое время оставалась на крыльце, слушая его шаги в овраге, потом всегда был негромкий окрик часового, потом — тишина, потом — жаркая истома девичьей постели…
Однажды Захар пришел на целый день. Он выколотил из повара жалобу на воду и попросился у командира поправить обваливающийся колодец, но в помощники никого себе не взял. Он даже не подпускал никого близко, кроме водовоза из хозвзвода да Катерины, которую всячески удерживал возле себя. Работал он неторопливо, стараясь продлить это удовольствие уединения, но делал колодец хорошо, просто на славу. Он углубил его, насыпал на дно мелких камней и песку, а главное — срубил сруб из гладкоствольных осин, росших по оврагу. Закончив колодец, он сказал матери Катерины, что осина в воде — вечна и лучше дерева для этого дела нет.
![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149744/149744.jpg)